Биография
Василий Семенович Емельянов родился 12 февраля 1901 года в семье плотника в г. Хвалынске Саратовской губернии. Затем его отец в поисках работы перевез семью в поселок Балаханы под Баку. Здесь Василий Емельянов работал в 1914—1918 гг. рассыльным на нефтепромысле.
Отец, увидев у сына тягу к чтению, стал поощрять его интерес к знаниям, и Василий смог сдать вступительный экзамен на одно из двух бесплатных мест в первом классе реального училища в Сураханах, отличавшимся высоким уровне преподавания, широтой учебной программы и требовательностью к ученикам. Его учебу оплачивал владелец нефтепромыслов Бенкендорф.
Хотя у Василия Емельянова рано возник ярко выраженный интерес к математике и естественным наукам, преподаватели помогали ему развить склонности и к гуманитарным предметам. Он любил уроки истории, старательно изучал немецкий и французский языки. Он стал писать стихи, которые после революции публиковались в профсоюзных газетах Баку.
Гражданская война, в которой Василий Емельянов с 17 лет принял активное участие, сражаясь в отрядах Бакинской коммуны, не угасила у него тягу к знаниям и исследованиям, развившуюся в реальном училище. Вскоре после установления Советской власти в Баку в 1921 году он выехал на учебу в Москву, в Горную академию. И хотя направлявшие его бакинцы рассчитывали, что по окончании учебы он вернется инженером-нефтяником, В. С. Емельянов выбрал металлургию, которая стала его основной профессией на всю жизнь.
Еще не закончив учебного курса академии, В. С. Емельянов в 1923 году включился в научную работу под руководством профессора Н. П. Чижевского. Затем он стал сотрудником лаборатории электрометаллургии. В этой лаборатории он принимал участие в экспериментальных исследованиях по созданию ферросплавов.
Изучение тайн металла стало главной страстью В. С. Емельянова.
1928—1931 гг. он работает заведующим лабораторией ЦНИИ по технологии машиностроения, оставаясь ассистентом кафедры электрометаллургии Московской горной академии.
В начале 30-х гг. В. С. Емельянова командировали в Германию по программе научного обмена для изучения электрометаллургии и ферросплавов. Вместе с И. Т. Тевосяном и другими металлургами он работал на заводах Круппа и других предприятиях Германии, главным образом в городе Эссен. Во время пребывания в Германии он старательно осваивал новые для него приемы разливки стали, а также методику производства высококачественных металлов, которые в то время не изготовлялись в СССР. Работа на металлургических заводах Германии позволила В. С. Емельянову не только узнать неведомую прежде технологию производства, но и понять многое о свойствах различных металлов, о которых мало было написано в теоретической литературе. Заодно он освоил методику создания различных ферросплавов.
Хотя приход нацистов к власти в Германии в 1933 году привел к свертыванию, а затем прекращению программы научно-технического обмена с СССР, богатый научный и производственный опыт, полученный советскими металлургами на германских заводах, был использован на новых металлургических предприятиях, созданных в годы первых советских пятилеток. Разработанный В. С. Емельяновым технологический процесс производства ферромарганца был положен в основу проекта Запорожского завода ферросплавов.
В мае 1933 года B. C. Емельянова назначили техническим директором только что построенного ферросплавного завода в Челябинске. Главному инженеру завода и другим специалистам пришлось внимательно изучать всю цепочку технологического процесса, прежде чем добиться того, что в 1936 году количество брака снизилось до минимума, а завод стал выполнять план. Как технический директор B. C. Емельянов живо откликался на рационализаторские предложения инженеров и рабочих и способствовал внедрению их в производство.
В 1937 году B. C. Емельянов перешел на работу в Москву на должность заместителя начальника Главного управления по научно-исследовательским работам Наркомата оборонной промышленности. Здесь главным направлением его деятельности стали вопросы создания новых видов брони. B. C. Емельянову приходилось не раз доказывать правильность своих и поддерживаемых им технических решений то на полигонных испытаниях, то на совещаниях, проводившихся И. В. Сталиным в Кремле. Так, он предложил изготавливать танковые башни не сваркой, а литьем. Результаты полигонных испытаний доказали правильность его идеи. Уже после начала войны, в 1942 году за участие в разработке литых башен для танков Т-34 B. C. Емельянов получил Сталинскую премию.
В 1940 году B. C. Емельянов был назначен заместителем председателя Комитета стандартов при СНК СССР. Эта работа позволила ему ознакомиться с продукцией самых различных производств.
После начала войны Комитет стандартов был эвакуирован в Барнаул, но B. C. Емельянов недолго побыл там. В начале осени 1941 года B. C. Емельянов, оставаясь формально на работе в Комитете стандартов, получил новое задание. Ему был вручен мандат за подписью И. В. Сталина, гласивший, что он, Емельянов Василий Семенович является уполномоченным Государственного Комитета Обороны на заводе по производству танков и что на него «возлагается обязанность немедля обеспечить перевыполнение программы по производству корпусов танков».
Между тем на уральском заводе, на который был командирован B. C. Емельянов, только начинался монтаж оборудования для танкового производства. В обычных условиях такой монтаж должен был занять четыре-шесть месяцев. Он пошел к монтажникам и объяснил им: «Немцы под Москвой. Нужны танки. Нам нужно точно знать, когда будет смонтирован цех». Монтажники попросили двадцать минут на размышление. Когда B. C. Емельянов к ним вернулся, их бригадир сказал: «Распорядитесь, чтобы нам несколько лежаков поставили... Спать не придется, отдыхать будем, когда не сможем держать в руках инструменты. Скажите, чтобы еду из столовой нам тоже сюда доставляли, а то времени много потеряется. Если сделаете, что просим, то монтаж закончим через семнадцать дней».
Осознание смертельной угрозы, нависшей над страной, заставляло не только трудиться с исключительным физическим напряжением, но и способствовало высшей мобилизации мысли. При совершенствовании производства и конструкции танка особое внимание обращали на слабые места, которые обнаруживались в ходе боевых действий. На завод пришло сообщение, что немцы имели инструкцию: «Стрелять в место стыка башни с корпусом!». При попадании снаряд заклинивал башню, и она не могла вращаться. По предложению B. C. Емельянова, перед башней закрепили броневые детали особой формы, отражавшие снаряд, но позволявшие башне вращаться.
В конце войны B. C. Емельянов вернулся к работе в Комитет стандартов СССР, став сначала заместителем, а затем председателем комитета.
В апреле 1946 года B. C. Емельянова назначают заместителем начальника первого Главного управления при СНК СССР — начальником научно-технического отдела ПГУ. Управление возглавил опытный руководитель оборонных предприятий Б. Л. Ванников, а его первым заместителем стал бывший директор Магнитогорского и Норильского комбинатов А. П. Завенягин. Вопросы атомной физики и расщепляющихся материалов были для B. C. Емельянова совершенно новым делом, хотя с технологией производства урана он впервые ознакомился еще будучи студентом в лаборатории Н. П. Чижевского. Однако он знал лишь об использовании этого элемента для создания ферроурана, который одно время применялся в США для изготовления танковой брони.
Отвечая за координацию научно-исследовательских работ различных учреждений страны, B. C. Емельянов постоянно сотрудничал с И. В. Курчатовым, А. П. Виноградовым, Л. А. Арцимовичем, А. И. Алихановым, В. И. Векслером, И. К. Кикоиным, Н. А. Доллежалем, А. П. Александровым и другими выдающимися учеными страны.
Теперь, когда опубликовано столько материалов о деятельности советской разведки по добыче атомных секретов США, создается впечатление, что советским ученым оставалось лишь смонтировать бомбу по готовым чертежам. Не преуменьшая заслуг самоотверженных бойцов тайного фронта и зарубежных друзей нашей страны, надо учесть, что создание атомного оружия в СССР было не только связано с раскрытием секрета конструкции атомной бомбы, но потребовало также создания новых материалов и новых технологических процессов, новых приборов и новых станков, принципиально новых отраслей науки и техники, целых отраслей производства.
Исходя из имевшихся у них сведений о советском научном, техническом и промышленном потенциале, американские исследователи Джон Ф. Хогерон и Эллсуорт Рэймонд опубликовали в 1948 году в журнале «Лук» статью «Когда Россия будет иметь атомную бомбу». Статья венчалась выводом: «1954 год, видимо, является самым ранним сроком, к которому Россия сможет... произвести достаточно плутония для того, чтобы она могла создать атомное оружие». Однако усилия советских ученых, инженеров, техников и рабочих опрокинули этот прогноз; первое успешное испытание советского атомного оружия РДС-1 состоялось в августе 1949 года.
В ходе испытания РДС-1 B. C. Емельянов отправился с группой специалистов, чтобы замерить уровень выпадения радиоактивных осадков от атомного взрыва по мере прохождения радиоактивного облака от Семипалатинского полигона на восток. Путь начали с эпицентра взрыва, а потому на дно машин были положены толстые листы свинца. Чтобы не создавать паники среди населения, комиссия была «законспирирована» под видом группы врачей, изучавших распространение бруцеллеза среди животных. По мере удаления от места взрыва радиоактивность на земле быстро падала, однако она сохранялась в потоках воздуха, перемещавшихся на восток. Вскоре эти потоки были исследованы американскими специалистами, которые объявили, что в СССР был произведен атомный взрыв. Лишь после этих заявлений было опубликовано заявление ТАСС, в котором признавался факт этого события.
За участие в создании РДС-1 В. С. Емельянов был награжден орденом Ленина.
В 1950 году В. С. Емельянов защитил диссертацию, получив ученую степень доктора технических наук. После испытания в августе 1953 года первой в мире советской термоядерной бомбы ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В том же году B. C. Емельянов был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению технических наук (металлургия).
После организации Минсредмаша в 1953 году B. C. Емельянов был назначен на должность начальника научно-технического управления министерства, а в 1955 году — заместителем министра среднего машиностроения.
В тот период советские исследования в области ядерной физики и использования ядерной энергии получали всемирное признание. Вместе с видными исследователями в этой области Д. И. Блохинцевым, А. П. Виноградовым, Д. В. Скобельциным и другими В. С. Емельянов принял участие в состоявшейся в августе 1955 года первой Женевской конференции по проблемам мирного использования атомной энергии. Осенью того же года он отправился в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи в качестве научного советника делегации СССР в связи с обсуждением вопроса о международном сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии.
Развитие международных связей нашей страны затруднялось засекреченностью работ по атомной энергии. В то же время развитие науки настоятельно требовало интенсивного международного обмена научной и технической информацией по вопросам роли атомной энергии, типах ядерных реакторов для атомных станций, использования радиоактивных изотопов в мирных целях, хранения ядерных отходов и т.д.
Главным образом, исходя из решения этих задач, из Министерства среднего машиностроения в 1957 году было выделено Главное управление по использованию атомной энергии (ГУИАЭ). После назначения 24 июля 1957 года Е. П. Славского министром среднего машиностроения начальником ГУИАЭ стал В. С. Емельянов.
В сферу его деятельности входили атомные станции, работы по использованию радиоактивных изотопов в народном хозяйстве, а также международные связи атомной науки и техники. В. С. Емельянов возглавлял советские делегации по вопросам сотрудничества в атомной энергии, входил в состав ряда правительственных делегаций, возглавлявшихся Н. С. Хрущевым, и принял самое активное участие в создании Международного агентства по мирному использованию атомной энергии (МАГАТЭ). 28 мая 1959 года В. С. Емельянов был назначен членом Совета управляющих МАГАТЭ от Советского Союза.
В тот период под руководством Минсредмаша и ГУИАЭ особо интенсивно создавалась экспериментальная база ядерной энергетики в странах социалистического лагеря. Практически за 4 года в 9 странах были построены опытные ядерные реакторы и осуществлен их пуск.
Другая группа проблем касалась развития радиационной техники и технологии, а также применения радионуклидов и ионизирующих излучений в народном хозяйстве и медицине. В 1958 году постановлением партии и правительства перед ГУИАЭ была поставлена задача значительно расширить производство изотопов и соединений из них, а также источников излучения. Для этого на Заводе № 817 (ПО «Маяк») был построен завод радиоактивных изотопов, первая очередь которого была введена в эксплуатацию в 1960 году.
Реорганизация ГУИАЭ началась с выхода 1 июня 1960 года распоряжения председателя СМ СССР Н. С. Хрущева, в котором предписывалось: «Поручить т. Емельянову В.С. представить проект положения о Государственном комитете Совета министров СССР по использованию атомной энергии и предложения по его структуре и штатам...». 25 августа 1960 года было утверждено положение о ГКИАЭ.
Председатель ГКИАЭ В. С. Емельянов в тот период прилагал много усилий для расширения связей между институтами ГКИАЭ и организациями стран содружества. Так, среди материалов, переданных в руки исследователей зарубежных стран, фигурировал плутоний в виде металлических слитков, уран различного обогащения, торий и его соединения, тритий и пр.
В самый напряженный период работы Государственного комитета В. С. Емельянов был отстранен от обязанностей председателя и переведен заместителем руководителя ГКИАЭ. Председателем Госкомитета 14 февраля 1962 года был назначен А. М. Петросьянц.
Постановлением СМ СССР от 23 сентября 1963 года создаются постоянные комиссии Совета Экономической взаимопомощи (СЭВ), в том числе постоянная комиссия СЭВ по использованию атомной энергии в мирных целях. В. С. Емельянов назначается заместителем руководителя.
Одновременно с международной деятельностью В. С. Емельянов не прекращал научной работы. С 1948 года он стал вести преподавательскую и научно-исследовательскую работу в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ), где был заведующим кафедрой. В 1956 году три материаловедческие кафедры (спецметаллургии, спецметалловедения, физики твердого тела) были объединены в единую кафедру, которую В. С. Емельянов возглавлял до 1984 года. С 1984 года и до последних дней жизни Василий Семенович был профессором кафедры металлургии и металловедения МИФИ. Под руководством В. С. Емельянова в лаборатории при кафедре чистых металлов стали получать уникальные образцы редкоземельных элементов, созданных путем их кристаллизации в вакуумной среде.
Одновременно разрабатывались конструкции промышленных реакторов для получения пластичного циркония, реализованные затем на Московском заводе полиметаллов и Чепецком механическом заводе в г. Глазове. Иодидный метод стал применяться и для производства титана, гафния, хрома и ванадия. Итогом работ по иодидной металлургии, созданной в СССР по инициативе В. С. Емельянова, явилось создание атомных подводных лодок с титановыми корпусами и двигателями из циркония, баллистических ракет, космических аппаратов и обитаемых орбитальных станций.
Занимаясь наукой, В. С. Емельянов никогда не замыкался в рамках профессиональной деятельности. Он обладал огромной любознательностью и способностью увлекаться самыми различными предметами. Он увлекся выращиванием роз и на даче создал коллекцию этих капризных цветов. Он долго был страстным собирателем грибов и до поздней осени ездил в известные лишь ему грибные места.
Инициативная натура В. С. Емельянова нередко наталкивалась на косный бюрократизм, а сохранившиеся у него с юности романтический идеализм и неприязнь к жестким иерархическим порядкам, за которые И. В. Курчатов шутливо называл его «красным партизаном», не позволяли ему понять карьеризм ряда своих сослуживцев. Вероятно, поэтому он ушел на пенсию сравнительно рано, по тогдашним меркам, для лиц, занимавших высокие административные посты. С декабря 1965 года В. С. Емельянов — персональный пенсионер союзного значения.
Однако после своего ухода с поста заместителя председателя ГКИАЭ В. С. Емельянов не прекратил активной деятельности. Он продолжал вести научные исследования и преподавал в МИФИ, активно сотрудничал в Высшей аттестационной комиссии и научном совете Государственного комитета по науке и техники. Его авторитет в мире ученых-атомщиков и его обширные международные связи способствовали тому, что во время 4-й Женевской конференции по вопросам использования атомной энергии, состоявшейся в 1967 году, он был избран ее председателем.
Одновременно он участвовал в международной общественной деятельности ученых. Он был активным членом Советского комитета защиты мира и различных общественных организаций, выступавших за разоружение. В 1966—1988 гг. В. С. Емельянов являлся председателем Комиссии АН СССР по научным проблемам разоружения, членом Госкомитета СМ СССР по науке и технике.
В. С. Емельянов принимал участие в Пагуошском движении ученых. На ежегодных конференциях в рамках этого движения происходил поиск выхода из многих острых мировых проблем, которые либо зашли в тупик, либо не воспринимались общественным мнением как актуальные.
В. С. Емельянов — дважды лауреат Сталинской премии (1942 г., 1951 г.), награжден 4 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции и 4 орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
В. С. Емельянов умер 27 июля 1988 года.
Библиография10


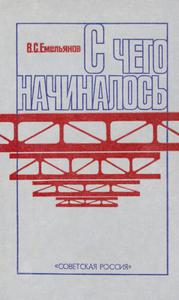


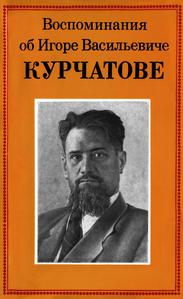
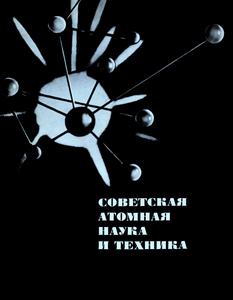
![Емельянов В. С., [Воспоминания о В. Г. Хлопине]](http://elib.biblioatom.ru/data/akademik-hlopin_ocherki_1987/thumb.jpg)
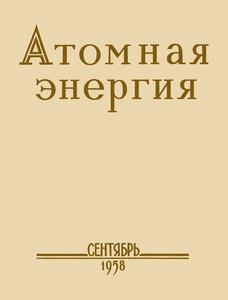

Фотогалерея10









