Биография
Александр Семенович Кронрод родился 22 октября 1921 года в Москве в семье инженера.
К математике Саша Кронрод приобщился еще в школе, войдя в математический кружок студента МГУ Д. О. Шклярского. В 1938 году он стал одним из победителей IV Московской школьной олимпиады по математике. Призы победителям вручал будущий академик А. Н. Колмогоров, который уже тогда обратил внимание на талантливого школьника.
В 1938 году А. С. Кронрод поступил на механико-математический факультет МГУ. В среде студентов его выделяли бросавшиеся в глаза выдающиеся способности и огромная активность, энергия и темперамент, и часто нарочитая заостренность и парадоксальность высказываний, и даже чисто внешние данные: высокий рост, красивый громкий голос.
Уже на первом курсе А. С. Кронрод выполнил свою первую самостоятельную работу по задаче, предложенной А. О. Гельфондом, возглавлявшим кафедру математического анализа. Её решение стало первым научным трудом А. С. Кронрода – он был опубликован в журнале «Известия Академии Наук» в 1939 году.
В первый же день Великой Отечественной войны А. С. Кронрод подал в военкомат заявление с просьбой направить его на фронт, но получил отказ, так как студентам старших курсов предоставлялась броня. Осенью его направили на строительство укреплений вокруг Москвы, где он возглавил студенческую бригаду мехмата МГУ. По возвращении оттуда он опять начинает атаковать военкомат заявлениями и добивается своего: его направляют в действующую армию.
Во время зимнего наступления Красной армии под Москвой храбрость А. С. Кронрод была отмечена первой наградой – орденом Красной Звезды. В одном из боев он был тяжело ранен. А. Н. Колмогоров добился разрешения после завершения лечения в госпитале взять А. С. Кронрода в аспирантуру, но он не воспользовался представленной возможностью и возвратился на фронт. В 1943 году А. С. Кронрод получил второе тяжелое ранение. О возвращении его в действующую армию не могло быть и речи и его демобилизовали. Ранение сделало его инвалидом и давало о себе знать все последующие годы.
Осенью 1944 года А. С. Кронрод возобновил обучение на 4 курсе мехмата МГУ.
Еще в госпитале А. С. Кронрод обратился к задаче, которую еще перед войной поставил перед ним профессор мехмата М. А. Крейнес. Её решение, опубликованное в 1945 году в журнале «Математический сборник», стало дипломной работой А. С. Кронрода. За нее он был удостоен престижной премии Московского математического общества для молодых ученых – это был уникальный случай присуждения премии студенту; кроме того, он стал единственным математиком, дважды получившим эту премию.
В феврале 1945 года на факультете возобновил чтение лекций академик Н. Н. Лузин, который начал ведение семинара по курсу «Теория функций двух действительных переменных». Самой сильной стороной Н. Н. Лузина всегда была способность ставить перед своими учениками задачи, имеющие большое общематематическое значение – такие, методы решения которых, самостоятельно разрабатываемые сильными и настойчивыми молодыми учеными, приводили к возникновению новых направлений. Н. Н. Лузин стал учителем А. С. Кронрода. Под его руководством А. С. Кронрод в соавторстве с Г. М. Адельсон-Вельским выполнил ряд известных математических работ.
Но этим А. С. Кронрод не ограничился – не в его характере было ставить перед собой частные задачи. Столкнувшись с функциями двух переменных, он обнаружил, что если теория непрерывных функций одного действительного переменного была в это время уже доведена до некоторой полноты, то теория функций двух и многих переменных просто не существовала. Теории функций двух переменных не существует – значит надо ее создать. На протяжении следующих четырех лет А. С. Кронрод построил стройную теорию, охватывающую свойства функций двух действительных переменных, связанных с понятием вариации и наметил путь для построения теории функций многих переменных.
Развитая А. С. Кронродом теория функций двух переменных составила содержание его диссертации, защищенной им в МГУ в 1949 году. Официальными оппонентами по диссертации выступили М. В. Келдыш, А. Н. Колмогоров и Д. Е. Меньшов. За эту работу А. С. Кронроду была присуждена сразу ученая степень доктора физико-математических наук, минуя кандидатскую степень.
С 1945 года параллельно с учебой в университете, а затем и после его окончания, А. С. Кронрод начал работать в вычислительном отделе Лаборатории № 2 Академии наук (ЛИПАН, будущий Курчатовский институт) у И. В. Курчатова, где занимался вычислительной математикой.
Первоначально его привели в Лабораторию измерительных приборов АН материальные соображения: он был женат, в 1943 году у него родился сын, и ему было необходимо получить жилье. Работа в «секретном» институте давала такую возможность. Со временем А. С. Кронрод понял, что вычислительная математика – интересная область, совсем не похожая на чистую математику. А. С. Кронрод придумал ряд алгоритмов быстрого решения тех или иных задач, в частности, независимо от нескольких других авторов, он открыл метод прогонки, используемый для расчета ядерных реакторов. Он также участвовал в разработке пористых фильтров для диффузионных машин разделения изотопов урана.
Кроме электрических арифмометров фирмы «Мерседес» в отделе тогда имелись табуляторы и сортировки, работавшие с перфокартами. Работа свела А. С. Кронрода с талантливым инженером-релейщиком Н. И. Бессоновым, который из нескольких табуляторов и сконструированного им дополнительного релейного устройства для умножения чисел построил «комбайн», на котором можно было решать некоторые более сложные вычислительные задачи. Здесь у А. С. Кронрода и Н. И. Бессонова (математическая сторона вопроса принадлежала первому, а конструкторская – второму) зародилась идея универсальной цифровой вычислительной машины с программным управлением. Проект такой машины – РВМ (Р – релейная) – был принят к производству. Если бы эту машину построили быстро, это была бы первая в СССР цифровая быстродействующая вычислительная машина, по скорости счета превосходившая современные ей американские ЭВМ. В её конструкцию был заложен ряд новаторских идей, в частности, использовался «каскадный метод» – своего рода распараллеливание, применен «счетчик Шеннона» и т. п. Все это открывало совершенно новые перспективы и переворачивало представление о возможностях методов вычислений.
В конце сороковых годов руководство советским Атомным проектом признало необходимым наряду с Лабораторией № 2 создать еще один «атомный» институт, впоследствии получивший название Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ). Его руководителем стал А. И. Алиханов. В 1949 году по рекомендации И. В. Курчатова и Л. Д. Ландау А. И. Алиханов пригласил А. С. Кронрода в свой институт и поручил ему руководство вычислительным отделом, основным назначением которого было решение физических задач, возникающих при создании атомного оружия. Будучи прирожденным организатором, А. С. Кронрод получил возможность организовать работу так, чтобы отдел работал максимально эффективно.
Перейдя в ИТЭФ, А. С. Кронрод перетянул туда и Н. И. Бессонова. В институте в 1954 году начала строиться РВМ, но её строительство шло мучительно медленно. Она была дешева, и это, возможно, формировало не совсем серьезное отношение к ней у руководства. Компетентные люди давали А. С. Кронроду советы, как ускорить строительство, сделав, например, контакты из золота: это и несколько улучшило бы качество машины, и соответственно удорожило бы ее, что могло в корне изменить отношение к ней, но его честность никогда не позволила бы ему прибегнуть к подобным трюкам. К тому времени, когда РВМ была построена, а это был уже 1957 год, в СССР уже начали проектироваться первые ЭВМ. Хотя благодаря богатству заложенных в РВМ идей она еще опережала по быстродействию проектирующиеся ЭВМ, но у нее, конечно, не было будущего, хотя, если бы машина была выпущена своевременно – пусть и с золотыми контактами – она, безусловно, окупила бы себя.
В жизни А. С. Кронрод придерживался принципа: идея – ничто, реализация ее – все. А. С. Кронрод, будучи постоянным генератором идей, нисколько не ценил их. Он раздавал их направо и налево и считал вполне искренне и убежденно автором того, кто его идею реализовал. Так, например, авторство РВМ он решительно приписывал одному Н. И. Бессонову.
А. С. Кронрод быстро оценил преимущество электронных элементов перед релейными. Он деятельно участвовал в обсуждении конструкций первых ЭВМ, являясь членом многочисленных научных советов, планирующих их создание. Из-за того, что его идеи опережали время, в этих обсуждениях он часто оставался в меньшинстве. Например, он безуспешно доказывал, что в машине действия с числами, имеющими плавающую запятую, должны быть реализованы аппаратно. В СССР, тем не менее, первые машины имели фиксированную запятую, а действия с числами, имеющими плавающую запятую, реализовывались программно; что делало формально скорость машины большей, а фактически снижало эту скорость до очень низкого уровня.
В период с 1950 по 1955 гг. главная деятельность А. С. Кронрода – численное решение физических задач. Он много работает с физиками атомного проекта, из которых по работе он ближе всего был связан с И. Я. Померанчуком и Л. Д. Ландау, которые решали проблемы создания водородной бомбы.
После успешного испытания первой советской водородной бомбы РДС-6с Постановлением СМ СССР «О присуждении Сталинских премий научным и инженерно-техническим работникам Министерства среднего машиностроения и других министерств и ведомств за научную и конструктивную разработку и сооружение атомного котла с замедлителем из тяжелой воды и за организацию производства тяжелой воды» от 31 декабря 1953 года за расчетные и экспериментальные работы по созданию атомного котла А. С. Кронроду была присуждена Сталинская премия II степени.
А. С. Кронрод ведет математические расчеты по водородной бомбе РДС-6Т, так называемой «трубе». Ему было поручено разработать приближенный метод учета анизотропии в расчете комптон-эффекта при заданном гидродинамическом поле и точный метод расчета комптон-эффекта с полным учетом анизотропии при заданном гидродинамическом поле. Однако в конце 1954 года направление «трубы» было признано малоперспективным и предложено переключить подразделение А. С. Кронрода на решение задач водородной бомбы с атомным обжатием.
За решение задач государственной важности он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Только в 1955 году А. С. Кронрод получил реальную возможность работать на ЭВМ. Это была машина М-2. Начав с увлечением заниматься программированием на машине М-2, А. С. Кронрод быстро приходит к мысли о том, что вычислительные задачи вовсе не есть главное, для чего может быть применена ЭВМ. По его мнению, главное – это научить машину думать, т.е. создать искусственный интеллект.
А. С. Кронрод увлекает за собой большую группу математиков и физиков. В комнате, соседней с той, в которой стояла машина М-2, начал работать так называемый «кружок Кронрода». В этом семинаре горячо обсуждались методы распознавания образов, транспортная задача, задачи теории автоматов и многие другие.
А. С. Кронрод умело направлял энтузиазм участников в практическое русло. Он предложил выбрать эталонную задачу, продвижение в решении которой позволяло бы судить об уровне, достигнутом авторами в области эвристического программирования. В качестве такой задачи он предложил интеллектуальную игру. Первая задача, которая была выбрана и программа которой была реализована, была карточная игра «подкидной дурак». Такой выбор был не случаен. Это – сложная игра, не имеющая разработанной теории и допускающая простое описание позиции, что было чрезвычайно важным, учитывая маломощность машины и ограниченность ее памяти. Программа была написана и играла. Игра была достаточно сильной, пока в колоде оставались карты, и шла игра «с неполной информацией». После перехода игры в «открытую», когда все сводилось к перебору вариантов, не хватало мощности машины ввиду необыкновенно больших размеров «дерева игры».
Затем А. С. Кронрод предложил в качестве эталона другую игру – шахматы. Шахматная программа создавалась уже на базе новых машин: в математическом отделе ИТЭФ были установлены сначала одна, а затем и вторая машина М-20. Шахматная программа писалась группой математиков, в которую сам Кронрод не входил, взяв на себя роль организатора. Надо было, и это было не просто, создать условия для работы шахматной группы в институте, основная масса сотрудников которого относилась к эвристическому программированию и вообще ко всему, что не касалось их непосредственной области, как к баловству.
Он организует шахматную встречу программы ИТЭФ с лучшей американской шахматной программой того времени, созданной группой сотрудников Стенфордского университета под руководством Дж. Маккарти. Состоялся матч по телеграфу из четырех партий, окончившихся со счетом 3:1 в пользу программы ИТЭФ.
Однако в ИТЭФ отдел существовал для математического обслуживания физических задач. А. С. Кронрод считал, что математик, решающий математическую часть физической задачи, должен понимать эту задачу, начиная с ее постановки, а также понимать, как будет использоваться полученный результат. Далее математик разрабатывал алгоритм, как правило, сообразуясь с физической постановкой, писал программу и считал. Программировать он должен был сам, потому что только при этом возможен выбор оптимального варианта решения. Для этого всего нужен был математик достаточно высокой квалификации, и А. С. Кронрод привлекает в ИТЭФ много хороших выпускников мехмата, причем и тех, кто специализировался в самых абстрактных областях.
Но для того, чтобы математик мог, не затрачивая лишних сил, сам программировать, ему нужно было создать максимум удобств и освободить от любой работы, не требующей его квалификации. В его распоряжении имелась богатая библиотека стандартных программ с удобными к ним обращениями. Написанная программа (или любой кусок ее) отправлялась в копировочную. Кодировка, проверка кодировки, перфорация, проверка перфорации – об этом программист не думал – на следующий день он получал два экземпляра колод программы без единой ошибки кодировки или перфорации. Отладка производилась за пультом, и не было проблем времени. Садиться за пульт программист мог столько раз, сколько ему нужно. А нужно было не очень много: программа разделялась на небольшие блоки, каждый из которых отлаживался отдельно.
Обязателен был контроль в виде ручного просчета. Строго соблюдалось правило: если программа работает и дает правдоподобный результат, это еще не значит, что она работает верно, даже если результат точен в вырожденных случаях.
А. С. Кронрод организовал четкую работу своих подразделений. Во-первых, он отобрал хороших работниц, во-вторых, добился для них высокой зарплаты. И, наконец, установил зависимость зарплаты от качества работы. За безошибочную работу давалась ежемесячно 20-процентная премия. За 2 ошибки в месяц, пропущенные проверщицей перфорации, эта премия уменьшалась наполовину. Еще за 2 пропущенные ошибки в месяц — премия снималась совсем.
Мягкий и добрый Кронрод здесь был непреклонен. Зато во всем, что не касалось качества их работы, он всячески шел им навстречу. Они его любили, уважали и дорожили своей работой, а ошибок не было.
Работа отдела была похожа на хорошо отлаженное фабричное производство. Результаты оказались поразительными. На маломощных машинах в трудных задачах математики ИТЭФ опережали зарубежных расчетчиков. Например, программа обработки наблюдений в сцинцилляционных камерах, давая большую точность, работала на М-20 вдвое быстрее, чем аналогичная программа в ЦЕРН на машине, обладавшей в 500 раз большей скоростью. За несколько ночных часов она обсчитывала все, что успел за сутки работы дать ускоритель.
В 1961-1962 гг. А. С. Кронрод начал интересоваться вопросами экономики, и подключился к общегосударственной программе оптимизации ценообразования. Он обратил внимание на то, что принципы, заложенные в ценообразование, неверны. К тем же выводам пришли Л. В. Канторович и ряд экономистов. Была создана Комиссия по ценообразованию при Совете Министров, в которую из математиков вошли Л. В. Канторович и А. С. Кронрод. В результате деятельности этой комиссии были приняты новые принципы ценообразования. Для реализации этих принципов надо было вычислить так называемые «леонтьевские матрицы» баланса материальных затрат по стране. Эта огромная вычислительная работа была возглавлена А. С. Кронродом.
Другой задачей, которой интересовался А. С. Кронрод в 60-е годы, была задача дифференциальной диагностики некоторых заболеваний при помощи ЭВМ. В Онкологическом институте им. Герцена была создана лаборатория, в которой велись, в частности, работы по дифференциальной диагностике рака легких и центральной пневмонии. Эту работу возглавлял А. С. Кронрод. Были достигнуты весьма обнадеживающие результаты.
В 1968 году А. С. Кронрод выступил одним из инициаторов письма 99 советских математиков против насильственного заключения в психиатрическую больницу по политическим мотивам А. С. Есенина-Вольпина, после чего он был уволен из ИТЭФ. С ним ушли из института почти все математики.
С 1968 года А. С. Кронрод начал заведовать математической лабораторией Центрального научно-исследовательского института патентной информации ЦНИИПИ. Наладив математико-информационную часть, А. С. Кронрод заинтересовался собственно патентным делом и обнаружил, что здесь нужны коренные реформы; стимулирующие изобретательскую деятельность. Он разрабатывает проект ряда мер, которые должны привести к исправлению положения с изобретательством и входит с ними в высокие инстанции, где находит понимание. Однако директор, который поддерживал А. С. Кронрода, сменился, а новый директор поспешил избавиться от столь беспокойного сотрудника.
В 1974 году А. С. Кронрод уходит из ЦНИИПИ.
Последнее место его работы – Центральная Геофизическая Экспедиция, где А. С. Кронрод руководит лабораторией, обсчитывающей показания приборов при бурении разведочных скважин. Он реализует ряд новых вычислительных идей, но эта работа, конечно, не соответствовала масштабам его таланта, и он находит себе новое дело.
В это время А. С. Кронрод знакомится с болгарским врачом Богдановым, автором препарата анабол, изготовленного из убитой болгарской молочнокислой палочки. Этот препарат у больных раком часто вызывал длительную ремиссию.
А. С. Кронрод начинает всячески пропагандировать этот препарат. Его не так легко достать – он производится в Болгарии в ограниченном количестве. А. С. Кронрод для умирающих больных организует его доставку. Но это не выход из положения – анабола мало, он дорог. Надо производить его в больших количествах и простым способом. И А. С. Кронрод придумывает такой способ. Так появляется новый препарат – простокваша на болгарской палочке – которому он дает название «милил». Он разрабатывает простую технологию его производства и способы его применения.
Милилом пользуются по его указаниям врачи, причем только в безнадежных случаях; лечат больных, заведомо обреченных на быструю гибель. Милил приобретает известность и даже некоторое признание: А. А. Вишневский в своем институте предоставляет для лечения по методу А. С. Кронрода палату больных. А. С. Кронроду обещают лабораторию для экспериментов над животными. Впрочем, дальше обещаний дело не идет, и все эксперименты он производит над самим собой.
Хотя А. С. Кронрод не лечил без присутствия врача и не брал за это денег, а напротив, тратил на лечение все свои деньги, против него было возбуждено уголовное дело. Закончилась эта история так: у прокурора, который возбудил это дело, заболел раком родственник и ему понадобился милил. Дело, естественно, было прекращено. Но для самого А. С. Кронрода это обернулось трагедией – у него произошел инсульт. Он полностью потерял речь, разучился читать и писать. Выздоровление шло медленно, он заново учится и говорить, и читать, и писать. Он уходит с работы в Центральной геофизической экспедиции, окончательно порывает с математикой. Его теперь интересует только медицина. Но тут его настигает второй инсульт. Третий инсульт он не пережил.
Александр Семенович Кронрод умер 6 октября 1986 года. Похоронен на Донском кладбище.
Библиография4
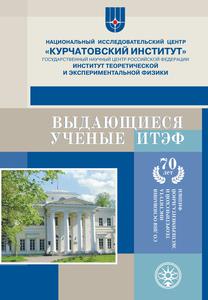
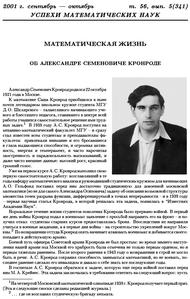
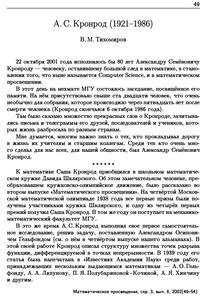
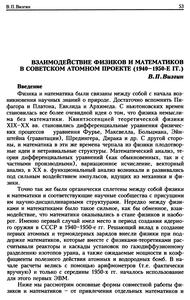
Фотогалерея7






